
Борис ПЕТРОВ
“ТЕМНА ВОДА
ВО ОБЛАЦЕХ...”
Покурил, отдохнул, пора трогаться дальше. Поднялся с удобно
лежащей вдоль обочины березы, вскинул рюкзак, ружье – на плечо, и снова
в путь. Проселок прилично накатан, хоть и затравенел, идти приятно. Вот
только всматривался я по сторонам все более растерянно. Довольно странное
зрело ощущение: второй час шагаю и все жду, когда начну узнавать вокруг
милые сердцу картинки...
Несколько лет я тут не был, но милые картинки все годы стояли перед глазами,
как живые. А вот и не признаю. Как-то оно непонятно – уже прилично протопал,
и ни одного знакомого “лица”. Шутки памяти... Да не должно бы. Но тогда
в чем дело? И хочешь – не хочешь, начало шевелиться подозрение, не попал
ли я в какую-то другую местность, не в ту степь? Я сначала от такого предположения
решительно отмахнулся, будто саблей отсекая: еще чего не хватало! Ведь
если допустить подобную возможность, вместе с нею возникает столько сложностей...
А началось все со злополучного зарода сена, которого на самом деле не
было.
До зарода я шагал “с весельем и отвагой победителя”, хотя вокруг стояла
ночь, с веселой гордостью за себя: все-таки молодец – взял и решился!
Ей-богу, молодец, теперь вновь увижу свои любимые палестины, мой охотничий
рай, который достался мне на склоне зрелых лет. Сам, сам его отыскал,
можно сказать, вычислил, будто астроном неизвестную планету. Идея была
– попытать счастья в отдаленных подтаежных районах, на границах освоенных
сельхозугодий. Там хлебные поляшки островами прячутся в заболотьях лесного
царства, там агротехника еще ковыляет на уровне 50-х годов, слабым колхозам
не под силу вредоносная для птиц химия; тем лесные дороги осенью непроезжие,
а я пешочком, пешочком – куда угодно заберусь. А главное, от магистрали
протянули железнодорожную ветку, чтобы вывозить древесину из дальних леспромхозов,
по ней раз в сутки ходит пассажирский (по прозванию “бичевоз”) – вечером
в городе садишься и к рассвету сходишь километров за 400. Рай кругом,
рай для охотника. И всего за пять рублей, стоимость проезда в плебейском
общем вагоне.
А затем в стране начались “реформы”, то есть пятирублевый билет стал стоить
двести, пятьсот, тысячу! Поезда ходили пустые: откуда у пассажиров “бичевоза”
такие деньги? И у меня тоже. Я даже вроде как обиделся на эти шизофренические
цены: ну и хрен с вами, сами ездите, кто такие цены устанавливает! Чувство
справедливости возмутилось.
Так-то оно так, да уж больно скудно стало в ближних угодьях. Раз вернулся
пустой, второй вообще без выстрела. Тоска, а не охота. Несколько сезонов
я так погоревал. То ли дело было в моем подтаежном раю... Неужели не удастся
больше побывать, только и останется жить воспоминаниями? Э-хо-хо, устроили
нам бравые “реформаторы” житуху – теперь воля только тем стрелкам, которые
на джипах да вертолетах, а простому человеку любимая забава стала не по
карману.
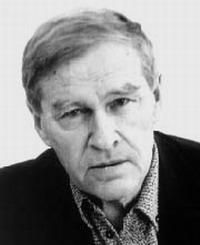
И, как это обычно случается у русского человека, вдруг душа
взбунтовалась: “Да пропади все пропадом! Что я не могу позволить себе
ради самого дорогого потратить несколько сотен?! На чем другом сэкономлю,
а для охоты, самого светлого, что в жизни осталось, не пожалею ничего!
Хоть разок съездить вволю, духом воспрянуть. Вот возьму и махну вопреки
всему, не уступлю никому своего самого заветного. А там... а там видно
будет”.
Как ни странно, поезд ходил по старому расписанию (только вагонов стало
раз-два и обчелся), на своей станции я сошел в полной темноте. Но ведь
весь путь знаю, перед глазами стоит во всех подробностях. Сначала главная
сельская дорога круто отворачивает от входного светофора влево – все дальше
и дальше вдоль речки Кеть, отступя от нее километр-полтора. По берегу
– деревни: Комарица, татарская Икшурма и самая дальняя – Михайловка, до
нее 17 километров. Но я забирался еще и дальше на последние поля, это
верст 25 от станции, все пешим ходом. Зато и попадал в рай, словно возвращался
в леса времен моей охотничьей юности. И сегодня снова туда попаду, теперь
меня ничто не остановит. От этого сладкого предчувствия сердце в груди
словно обдавало теплой волной, даже будто крылышки шевелились за спиной.
К рассвету подошел к Икшурминскому свертку. От него влево, с полкилометра
через березняк на бугре, и вот он, первый покос. На нем к этой поре всегда
дремлет добротно сметанный осанистый зарод, около которого, привалясь
спиной к шуршащему боку и вдыхая невообразимый аромат лесного сена, я
обычно отдыхаю. Потом собираю ружье, достаю из рюкзака патронташ... Совсем
рассвело. Но зарода на месте не оказалось – поляну нынешним летом не косили.
Эта неожиданность неприятно резанула. Хорошо, что проселок, как всегда,
уверенно набит, по нему я и отправился дальше после отдыха. Шагалось легко,
в удовольствие, и рюкзак, вечный спутник-захребетник, еще не тянул, даже
приятно было ощущать его бодрящую увесистость. Настроение утреннее.
И вот уже второй час иду от зарода, но все вокруг по-прежнему смотрится
незнакомым – ну никак не возникает ощущение встречи с близким, хоть и
давно не виденным. Странно. Недоуменное состояние какой-то внутренней
неукладистости все более берет силу. Допустим, подробности могли выветриться,
но в целом-то... Я же точно знаю, что должны были начаться пахотные поля.
Да-да, и по дороге попадалась старая силосная траншея на углу леса, высокие
бугры земли, вытолкнутые бульдозером по ее торцам –
![]()
Скачать полный текст в формате RTF